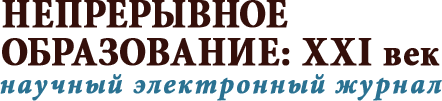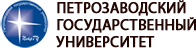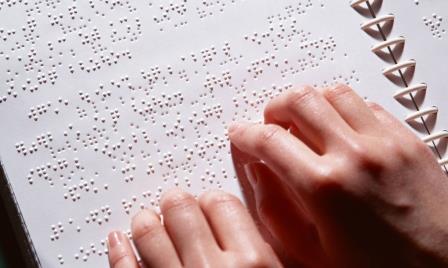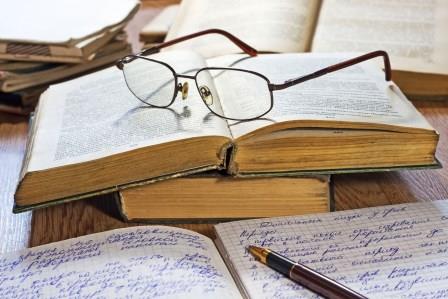Школьное насилие, как и насилие в любых социальных коллективах, открытых или относительно замкнутых, продолжает оставаться одной из самых значимых проблем современного общества как в России, так и за рубежом. Многие исследователи в области педагогики и психологии, а также педагоги-практики посвящают свои работы изучению таких феноменов, как буллинг и моббинг. К сожалению, нередко можно встретить весьма неопределенные и противоречивые раскрытия этих понятий, что может не только сбивать с толку, но и ставить под сомнение саму необходимость одновременного существования обоих терминов. Целью данной работы явилось устранение противоречий в существующих дефинициях терминов «буллинг» и «моббинг», определение понятий и установление корректной дифференциации между этими терминами. Методами исследования послужили анализ существующей педагогической и, психологической и научно-методической литературы, обобщение фактов по изучаемой проблеме.
Норвежский ученый Д. Олвеус (D. Olweus) определяет буллинг как агрессивно-деструктивную форму взаимодействия, основанную на неравенстве противостоящих сил [1]. Victims, то есть жертвы угнетения и насилия, чаще всего физически недостаточно развиты, излишне чувствительны и ранимы. Они предпочитают компании сверстников компанию более взрослых или же, напротив, более молодых людей, обладают повышенной тревожностью, склонны к самосозерцанию, у них низкая самооценка и очень мало друзей, а возможно, их нет вообще. C. Arora описывает буллинг как остросоциальное явление, заключающееся в осознанном желании причинить боль другому, подвергнуть его напряжению, запугать [2]. Феномен буллинга исследуется и отечественными учеными. А. В. Успенский, Ш. Х. Сафаров, И. Н. Сыкеева понимают буллинг «как явление, смысл которого заключается в осуществлении агрессивных действий (издевательства, травли, запугивания) со стороны одного или нескольких лиц в течение долгого времени в отношении, как правило, одного человека, по различным причинам не готового достойно ответить на агрессию» [3, с. 38]. По мнению М. Р. Арпентьевой, в основе буллинга лежит агрессия, которая в свою очередь порождается желанием превосходства над другими. Стремлением присвоить себе право вершить суды и выносить приговоры, руководствуясь собственными представлениями о жизни и выставлением на их основе оценок другим людям, желанием контроля и власти над другими и объясняется буллинг. Она отмечает: «…сам феномен оценки используется для того, чтобы осудить, а также чтобы организовать преследование, травлю» [4, c. 44]. Таким образом, буллинг основывается на стремлении к власти и контролю, к построению своеобразной деструктивной иерархии. Конечно, наиболее ярко буллинг может проявляться в детской и подростковой среде [5; 6]. Но, как отмечают А. А. Бочавер, К. Д. Хломов, этот термин впервые появился при изучении деструктивных отношений в коллективах взрослых людей. Данный феномен не является сугубо школьной проблемой, а может развиваться «почти в любом закрытом сообществе ‒ будь то армейское подразделение или элитный колледж» [7, c. 149]. Такого же мнения придерживаются М. А. Новикова, А. А. Реан [8]. Исследователи И. Г. Томарева, Л. А. Марянина, О. П. Аршинова подчеркивают, что «проблема буллинга на рабочем месте остается актуальной для изучения и требует новых и эффективных законов и управленческих практик» [9, c. 134].
Приведем пример противоречивого совместного раскрытия дефиниций «буллинг» и «моббинг» в научной литературе: «Моббинг – форма психологического насилия, проявляющегося в виде травли сотрудника в коллективе. Зачастую моббинг встречается и в школе, по большей части даже чаще, чем в какой-либо другой организации. Школьники высмеивают своих одноклассников, которые чем-то отличаются от всех, издеваются над теми, кто не может дать сдачи, а зачастую и без видимых на то причин. Буллинг – агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны остальных членов коллектива. Моббинг, или, другими словами, офисная травля, является разновидностью буллинга, который подразумевает психологическое насилие группы людей над человеком на работе» [10, c. 818].
Данный пример демонстрирует смешивание понятий при некоторых совпадающих характеристиках. В конце концов, возникает вопрос: если моббинг встречается и в школе среди учащихся, то почему этому явлению дается определение «офисная травля»? К разновидности буллинга при трудовых отношениях относят моббинг и в другой работе, но тоже без объяснения причин [11]. Вероятнее всего, некоторые исследователи cтали относить моббинг к сфере социально-трудовых отношений и психологии труда после публикации давней работы Хайнца Леймана (H. Leymann) [12]. Количество цитирований статьи огромно. Но, справедливости ради, шведский психолог в столь популярной статье никак не отрицал развитие моббинга в иных средах, кроме трудовых. Более того, Лейман в своей работе использует термин adult mobbing (моббинг взрослых) [12, p. 120], тем самым ясно дав понять (иначе зачем ему было подчеркивать?), что этот феномен существует не только во взрослом возрасте при трудовых отношениях. Вслед за этой работой появились статьи других ученых, посвященных моббингу во взрослом возрасте. Просто объектом их исследований, как и у Хайнца Леймана, явилась психология девиантных форм трудовых отношений. Как подчеркивают А. В. Иванов, Д. В. Чумаков, моббинг проявляется не только в трудовых коллективах, но и в детско-подростковых: «Феномен моббинг-поведения встречается в различных социальных средах, однако подавляющее большинство случаев травли приходится на детско-подростковую и молодежную среду» [13, c. 241]. Аналогичного мнения, что моббинг может существовать в разных социально-возрастных группах, придерживаются норвежский ученый Эрлинг Руланн (Erling Roland) [14], С. В. Новикова [15], Е. Н. Бондарева с коллегами [16] и другие исследователи. О моббинге, который можно встретить даже в детском саду, пишут Б. П. Яковлев, Г. Д. Бабушкин [17, c. 61].
Еще один пример путаницы можно увидеть в «Методических рекомендациях по предотвращению буллинга в школьных коллективах (для классных руководителей)». Выстроим следующий набор определений и умозаключений из этих «рекомендаций»: «Буллинг – это психологический террор с целью затравить жертву, вызвать у нее страх, деморализовать, унизить, подчинить. Обидчики дают ребенку неприятные прозвища, обзывают, бойкотируют, угрожают, отбирают личные вещи или намеренно портят их, бьют или пинают, заставляют делать неприглядные и оскорбляющие достоинство действия, распространяют лживые сведения, сплетни и слухи, исключают ребенка из круга общения»1.
«Моббинг – это своего рода “психологический террор”, включающий систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одних людей, направленное против других, в основном одного человека. Например, моббинг против «новичка». Формы моббинга: насмешки над физическими недостатками, изоляция, отвержение, поддразнивание, толкание, высмеивание одежды и т. д. По сути, моббинг и буллинг ‒ схожие понятия – это травля. В то же время буллинг отличается от моббинга тем, что в роли преследователя выступает не весь класс, а конкретный ученик или группа учеников»2. Причем на этой же странице, двумя предложениями выше, авторы пишут, что при моббинге преследовать может не весь класс, а часть класса. То есть тоже группа учеников, как и при буллинге. И вновь возникает вопрос – в чем же существенная разница?
Дэвид Лейн попытался разделить понятия «буллинг» и «моббинг» [18]. Но он, например, тоже считал, что моббинг ‒ это групповое давление, а буллинг определял как индивидуальное насилие. Большинство ученых не разделили его точку зрения. Как установил Энтони Пеллегрини (Anthony D. Pellegrini), школьные агрессоры имеют свойство тянуться к себе подобным и вступать в объединения [19]. Буллинг может быть и чаще всего бывает групповым, а не только одиночным.
Результаты российского исследования В. Н. Бутенко, О. А. Сидоренко подтвердили выводы зарубежных ученых о том, что зачастую буллеры стараются действовать «за компанию» [20]. Аналогичные выводы получили в своей работе Е. Н. Волкова, А. В. Гришина: «…cтаршеклассники-обидчики предпочитали индивидуальному участию в буллинге (21 % учеников) групповое насилие (79 % учеников)» [21, c. 25]. Результаты исследования В. Д. Ширшова, Д. И. Блинова, В. В. Гафнера показывают, что в классе буллерами, как правило, являются не один человек, а «стая» [22, c. 42]. Таким образом, доказано, что буллинг может исходить как от одного человека, так и со стороны нескольких. Однако не вызывает сомнений взгляд Д. Лейна относительно того, что моббинг ‒ это всегда групповое давление. Данная дефиниция определяется самой лексемой «моббинг». Слово «моббинг» (mobbing) имеет англоязычное происхождение от слова «mob», обозначающего толпу, банду. При моббинге используется все тот же набор методов агрессивного характера, что и при буллинге. Так, моббинг на рабочем месте проявляется в виде насмешек, употребления обидных прозвищ, негативной оценки внешнего вида, постоянных придирок, дискредитации в глазах вышестоящего начальства и сотрудников, распускании слухов и сплетен, бойкота, порчи личных вещей, угроз, нанесения вреда здоровью.
Вероятнее всего, в целом тождественный набор методов психологической травли и физического воздействия побуждает многих исследователей, не вдаваясь в подробности, приходить к выводу, что моббинг и буллинг практически идентичны. Как видно, на основании только лишь представления о групповом или индивидуальном насилии провести настоящую дифференциацию затруднительно. И моббинг является групповым давлением, и буллинг почти всегда – тоже. То, что буллинг может быть одиночным, – дополнительный отличительный признак, но никак не основной. Так чем же на самом деле отличаются моббинг и буллинг, что необходимо существование двух этих терминов?
В некоторых странах (Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия) вместо термина «буллинг» исторически более употребим термин «моббинг». С. В. Кривцова, А. А. Белевич, А. Н. Шапкина отмечают, что в скандинавских, германоязычных странах «для обозначения групповой травли используется преимущественно термин “моббинг”, слово “буллинг” употребляется для обозначения только самых грубых форм травли, когда помимо психологического прессинга применяется еще и физическое насилие. В англоязычных странах используют преимущественно термин “буллинг”, которым описываются все формы травли, как чисто психологической, так и с применением физического насилия» [23, c. 100].
Очень часто в научной педагогической и психологической литературе, не только зарубежной, но и отечественной, понятия «буллинг» и «моббинг» приравнивают друг к другу. Та же С. В. Кривцова и др. называют эти слова синонимами [24].
Е. П. Ильин полагал, что моббинг является разновидностью буллинга [25, c. 187]. В главе 10, разделе 10.1 «Особенности моббинга как вида буллинга» своей книги «Психология агрессивного поведения» он перечислил характеристики моббинга, абсолютно совпадающие c характеристиками буллинга (систематичность, длительность, дисбаланс сил, беспомощность жертвы и т. д.). При этом никаких особенностей моббинга, из которых следовала бы необходимость существования и употребления в научном обороте обоих терминов, Е. П. Ильин не пояснил. Также он согласился со многими зарубежными исследователями, что буллинг тоже бывает групповым, то есть может исходить как от одного агрессора, так и от группы, и в общем «это уже вторичная характеристика». Автор пришел к выводу: «…чтобы не продолжать путаться в терминологии, целесообразно, на мой взгляд, как это делает Пикас (Pikas, 1989), термин “буллинг” использовать как более общее, родовое понятие, а “моббинг” и “боссинг” ‒ как видовые разновидности буллинга» [25, с. 174]. В дальнейшем в своей книге Е. П. Ильин постоянно чередует термины «буллинг» и «моббинг», что, скорее всего, может запутать читателя.
Но между понятиями «буллинг» и «моббинг», несмотря на многочисленные сходства, все же видится принципиальное отличие. Хотелось бы как можно более детально прояснить его.
Если обратиться к социально-генетической природной основе, к cамой истории возникновения термина «моббинг» в середине XX в., то изначально этим словом обозначалось групповое поведение у животных при защите от хищников, от какой-либо опасности. У каждой особи по отдельности не слишком много возможностей дать опасному для себя животному ощутимый отпор, спасти собственную жизнь или жизнь молодняка в стае. И только групповая атака может значительно повысить шансы на выживание, заставить хищника отступить. Так, например, вороны способны отпугивать кошку, которая приближается к случайно оказавшемуся на земле птенцу. Они издают громкие звуки, буквально кричат, кружат над кошкой, пикируют и клюют хищника. Причем известно, что у птиц сигналы побуждения к моббингу отличаются от других особых сигналов тревоги. Сигналы тревоги, напротив, призывают быстрее удаляться от хищника. Таким же образом, путем группового нападения, охраняется и территория. Громкое оповещение, совместная многочисленная атака, призванная вынудить нарушителей убраться с территории, которую стая считает своей, составляет тактики моббинга.
Если рассмотреть человеческий коллектив, то задача при моббинге в целом идентична той, которую решают существа в животном мире. Разница лишь в том, что вместо хищника объектом нападения становится нежелательный для коллектива или части коллектива индивид – «чужой», или изгой. Основными целями при моббинге являются выталкивание изгоя за пределы группы, за границы «круга избранных», из коллектива, что менее, но все же приемлемо, его долговременная изоляция. Достигнув искомой цели путем психологической травли, бойкота и т. д., группа, как правило, теряет всякий интерес к жертве моббинга. По крайней мере, до тех пор, пока та вдруг не попытается вновь вторгнуться в эту группу. Например, увольнение нежелательного сотрудника, сделавшегося изгоем, практически означает окончание его психологической травли или иного воздействия на него. Здесь и прослеживается связь с моббингом в животном мире. Точно так же, как только нежелательное животное исчезает из поля зрения и перестает раздражать, внимание к нему моментально угасает, его никто из стаи далее не преследует и не донимает.
Рассмотрим, чем является унижение жертвы при моббинге и буллинге в человеческом социуме. При моббинге всякого рода унижение (психологическое, физическое или их комбинация) является средством, а не целью. Цель моббинга – выход жертвы из коллектива либо ее долговременная изоляция. Некоторые авторы разделяют, как им кажется, одно и то же явление в соответствии с возрастом участников. Они считают, что буллинг характерен в детском и подростковом возрасте, а моббинг – то же самое, но во взрослом возрасте в трудовых коллективах. Попытка такого определения («офисная травля») была представлена в вышеупомянутом примере в начале данной статьи.
На самом деле, и моббинг, и буллинг могут быть как в детском возрасте, так и во взрослом. Процесс моббинга в трудовых коллективах по своей структуре, стадиям развития мало чем отличается от моббинга в детском коллективе. Главной отличительной особенностью моббинга во взрослом возрасте при трудовых отношениях является отсутствие компонента физического насилия либо присутствие его в незначительной степени, в отличие от моббинга в детских учебных коллективах образовательных учреждений. Причинами моббинга в трудовых коллективах могут стать конкурентная борьба за внимание начальства, зависть к более талантливому и успешному сотруднику, яркая и красивая внешность либо, напротив, физические недостатки объекта моббинга. Желание освободить для кого-либо то рабочее место, которое занимает тот или иной сотрудник, также может запустить процесс травли. Широко распространены ситуации, когда моббинг провоцируется и инициируется самим руководителем какой-либо организации (предприятия). Особенно велик риск возникновения моббинга, если руководитель вдруг видит в каком-то сотруднике угрозу своему положению и авторитету.
Моббинг, инициируемый и проводимый руководителем, носит название боссинг. Очень часто моббинг в отношении себя испытывают недавно принятые в трудовой коллектив сотрудники или в ученический коллектив ученики, так называемые новички. Усмешки и обидные шутки, презрительные взгляды, многочисленные придирки, нелепые поручения унизительного характера, распространение слухов и сплетен, оскорбления, игнорирование и изоляция работника – это то, с чем приходится сталкиваться объектам моббинга на месте работы. В конечном итоге все создаваемые искусственным и злонамеренным образом препятствия для нормальной работы сотрудника и его унижения направлены на то, чтобы вынудить работника уволиться.
Моббинг на рабочем месте, как правило, проходит несколько стадий, которые переживает объект травли. На первой стадии жертва считает, что придирки в виде неконструктивной критики и усмешки в свой адрес носят случайный характер, что можно с какими-то выпадами в отношении себя согласиться и смириться, многое перевести в шутку. На второй стадии, как правило, моббинг значительно усиливается. Жертва все еще пытается сопротивляться ему, но уже не в силах продуктивно справляться с постоянно возрастающим психологическим давлением и зачастую впадает в депрессию, иногда стремится ослабить стресс при помощи алкоголя. На заключительной, третьей, стадии силы к сопротивлению по отношению к возросшей агрессии практически уже исчерпаны, психологические компенсаторные механизмы подавлены субъектом моббинга. Жертва усиленно ищет причины для того, чтобы как можно реже появляться на рабочем месте. При отсутствии влиятельной и существенной поддержки в рабочем коллективе от кого бы то ни было следует увольнение подвергнувшегося травле работника.
Аналогичные стадии проходит жертва моббинга в детском коллективе, в том числе иногда ответная реакция связана с курением, употреблением алкоголя / наркотиков под воздействием сильной стрессовой ситуации. Эмоциональная неустойчивость в подростковом возрасте под воздействием фактора травли действительно может запустить механизм алкоголизации и/или наркомании. Зарубежное исследование показало, что для жертв одним из последствий школьного насилия становится употребление психоактивных веществ [26].
Психологическая травля, а зачастую и физическое насилие, конечно, тоже выступают характерными чертами буллинга. В большинстве случаев основная цель буллера ‒ построить, укрепить и поддерживать своеобразную негативную иерархическую структуру или встроиться в нее. Главная его задача ‒ поставить жертву на самый нижний уровень социальной лестницы, а самому занять как можно более высокий. При этом в процессе буллинга нет никакого особенного стремления, в отличие от моббинга, во что бы то ни стало выталкивать жертву из группы, предпринимать психологическое или физическое воздействие, чтобы она навсегда покинула ее. Напротив, дальнейшее пребывание жертвы в такой выстраиваемой или выстроенной иерархической деструктивной группе для буллеров весьма приемлемо и даже во многом удобно, прежде всего из соображений оптимальной энергозатратности – им не нужно расходовать чрезмерно много сил для поддержания своего авторитета, для поиска нового объекта психологической травли или физического унижения. Унижение жертвы продолжается больше по инерции, приобретает вид аномального развлечения для буллера и группы его поддержки.
Если же вдруг происходит так, что жертва вырывается за пределы данной иерархической структуры, то буллеры, как правило, не теряют тут же к ней интерес, а раз за разом и при любом удобном случае напоминают о себе, в том числе путем кибербуллинга, то есть использования электронных средств коммуникации, сети Интернет, мессенджеров, социальных сетей, в онлайн-играх и т. д. Например, переход в другой класс или даже в другую школу не является гарантией того, что преследователи оставят жертву в покое. Удерживать объект преследования на «своем месте», на нижнем уровне или на границе в иерархии, является вполне желаемым действием для буллеров.
Для наглядности разницы между моббингом и буллингом можно обратиться к примерам из кинематографа.
Моббинг. Вольно или невольно создателям известного фильма «Чучело» (СССР, 1983) удалось передать основные стадии поведения жертвы школьной травли. В фильме продемонстрирован характерный пример моббинга в ученическом коллективе в отношении новичка – Лены Бессольцевой. Изолировать и изгнать ее из коллектива при помощи унижений и физического насилия стало желаемой целью большей части ученической группы. Причем характерно, что на начальном этапе (первая стадия моббинга) девочка тоже пытается шутить с обидчиками, смеется со всеми, явно не воспринимая всерьез злую иронию в свой адрес. В конце фильма происходит то, чего часть коллектива добивалась, – ученица покидает школу и со своим дедушкой уезжает из города (финал моббинга).
В фильме «Я люблю работать» (Италия, 2004) показан моббинг при трудовых отношениях. В коллективе появляется молодая сотрудница, которая становится изгоем вследствие чувства зависти части коллектива ‒ ее профессиональные умения отмечает начальство и, по мнению многих, чрезмерно хвалит ее. В конце концов, не выдержав коллективного давления, она покидает и коллектив, и сам город, переезжает на новое место. Фильм основан на реальных событиях.
Буллинг. В итальянской серии комедийных фильмов про бухгалтера Уго Фантоцци мы видим проявления буллинга во взрослом возрасте на рабочем месте. Над Фантоцци периодически издеваются, смеются, обзывают, переделывая фамилию. Коллеги называют его дочь «обезьяной», а его самого директор зовет «вонючкой». В сложившейся иерархии он поставлен на последнее место, и никакого желания изгнать его за пределы иерархии ни у кого из сослуживцев не возникает. Вероятнее всего, они не желают этого во избежание попадания самим в подобные условия. Издевательства выглядят бесцельными и больше носят характер развлечений от скуки. Фантоцци никто не увольняет и не стремится к этому. Он, как мог, приспособился к своеобразному отношению к себе, к своему унизительному положению и работает до тех пор, пока (в шестом фильме) сам не уходит на пенсию.
Учитывая вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
- Отнести процесс травли к буллингу или моббингу на основании только возраста или социально-групповой принадлежности участников процесса не представляется возможным. Понятие «моббинг» в мировой и отечественной психолого-педагогической научной литературе используется далеко не только в области психологии труда, но и по отношению к детской и подростковой среде. Точно так же буллинг отождествляется не только с агрессией и травлей в детском и подростковом возрасте, но и во взрослом. Оба явления могут возникать в самых различных коллективах, начиная с дошкольного возраста. Хотя, безусловно, наиболее массово и ярко буллинг представлен в подростковой среде.
- Идентификация буллинга или моббинга на основании количественной характеристики участия агрессоров в процессе травли возможна, но не всегда является надежным способом и часто затруднительна. Cкорее, количество агрессоров по отношению к жертве ‒ дополнительный, но не основной отличительный признак. Действительно, буллинг может исходить со стороны одного агрессора. Но чаще всего это групповое насилие, как и моббинг. Буллеры стремятся к созданию объединения, команды психологической поддержки и привлечению активных помощников. Иногда число агрессоров в определенной социальной группе таково, что травля жертвы может напоминать моббинг, если принимать во внимание лишь количественный признак.
Таким образом, с учетом проведенного аналитического исследования термины «буллинг» и «моббинг» могут быть дифференцированы на основании иного отличия. Несмотря на определенное и немалое сходство в методах давления на личность, они обозначают все же принципиально разные феномены именно в контексте желаемых результатов травли, которых хотят достичь буллеры и мобберы.
На взгляд автора данной статьи, для корректной дифференциации целесообразно дать следующие определения этих явлений:
- Буллинг – систематическое насилие в любом виде c целью построения деструктивной иерархии, происходящее со стороны индивида или группы в отношении лиц, не способных эффективно противостоять агрессии.
- Моббинг ‒ коллективная систематическая агрессия психологического и/или физического характера в отношении одного человека с целью изгнания его из группы, к которой он принадлежит.
Список литературы
- Olweus D. Bullying in schools what we know and what we can do. Oxford, 1993. 140 p.
- Arora C. M. J. Defining Bullying: Towards a Clearer General Understanding and More Effective Intervention Strategies // School Psychology International. 1996. № 17. P. 317–329.
- Успенский А. В., Сафаров Ш. Х., Сыкеева И. Н. Буллинг как форма отклоняющегося поведения молодежи // Вестник образовательного консорциума. Среднерусский университет. Серия: Гуманитарные науки. 2022. № 23. С. 38–39.
- Арпентьева М. Р. Проблема социального порядка и насилие в школах // Проблемы современного образования. 2016. № 5. С. 39–49.
- Польшин Д. Р. Буллинг в современной школе // Modern science. 2022. № 4-1. С. 350–352.
- Гарбузова В. С., Сковородко В. А. Буллинг в современной школе // Интерактивная наука. 2021. № 5 (60). С. 53–54.
- Бочавер А. А., Хломов К. Д. Буллинг как объект исследований и культурный феномен // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 3. С. 149–159.
- Новикова М. А., Реан А. А. Семейные предпосылки вовлеченности ребенка в школьную травлю: влияние психологических и социальных характеристик семьи // Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 4. C. 112–120.
- Томарева И. Г., Марянина Л. А., Аршинова О. П. Сравнительный анализ практик буллинга на рабочем месте в России, Германии и США // Коммуникология. 2023. Т. 11. № 2. C. 128–137. DOI: 10.21453/2311-3065-2023-11-2-128-137
- Лучина Е. А. Моббинг и буллинг: особенности проявления моббинга в России // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. Т. 3. C. 818–820.
- Данилова Е. А., Щанина Е. В. Буллинг как социальное явление в современном мире // Вестник университета. 2023. № 7. С. 214–219.
- Leymann H. Mobbing and Psychological Terror at Workplaces // Violence and Victims. 1990. No. 5 (2). P. 119–126.
- Иванов А. В., Чумаков Д. В. Особенности враждебных коммуникаций и моббинг-конфликты среди подростков в улично-школьном пространстве (по материалам полевого исследования) // Казанский педагогический журнал. 2023. № 3. C. 240–248. DOI: 10.51379/KPJ.2023.160.3.031
- Руланн Э. Г. Как остановить травлю в школе. Психология моббинга. Москва, 2012. 264 с.
- Новикова С. В. Моббинг как проблема философского осмысления // KANT. 2018. № 2 (27). C. 199–202.
- Е. Н. Бондарева, Ю. В. Сорокопудова, А. И. Морозова. Жестокость подростков. Моббинг в школе // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2014. № 1 (4). C. 7–10.
- Яковлев Б. П., Бабушкин Г. Д. Моббинг ‒ психологический террор обучающихся // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. № 1 (64). C. 61–64.
- Лейн Д. Школьная травля (буллинг). Санкт-Петербург, 2001. 438 c.
- Pellegrini A. D. School bullies, victims, and aggressive victims: factors relating to group affiliation and victimization in early // Journal of Educational Psychology. 1999. No. 91 (2). P. 216–224.
- Бутенко В. Н., Сидоренко О. А. Буллинг в школьной образовательной среде: опыт исследования психологических особенностей «обидчиков» и «жертв» // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. 2015. № 3. C. 138–143.
- Волкова Е. Н., Гришина А. В. Оценка распространенности насилия в образовательной среде школы // Психологическая наука и образование. 2013. № 6. С. 19–27.
- Ширшов В. Д., Блинов Д. И., Гафнер В. В. Профилактика и преодоление буллинга в образовательных организациях // Вестник ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности». 2018. № 4 (38). С. 40–46.
- Кривцова С. В., Белевич А. А., Шапкина А. Н. Школьный буллинг: об опыте исследований распространенности буллинга в школах Германии, Австрии, России // Образовательная политика. 2016. Т. 3. № 73. С. 97–123.
- Кривцова С. В., Шапкина А. Н., Малыгина М. А. Школьный буллинг: прояснение понятий // Вопросы психологии. 2019. № 3. С. 17–28.
- Ильин Е. П. Психология агрессивного поведения. Санкт-Петербург, 2014. 368 с.
- Baiden P., Tadeo S. K. Examining the association between bullying victimization and prescription drug misuse among adolescents in the United States // Journal of affective disorders. 2019. Vol. 259. P. 317–324.