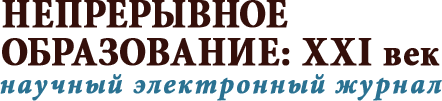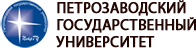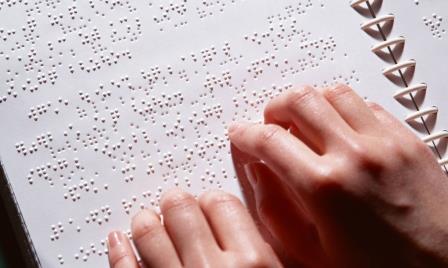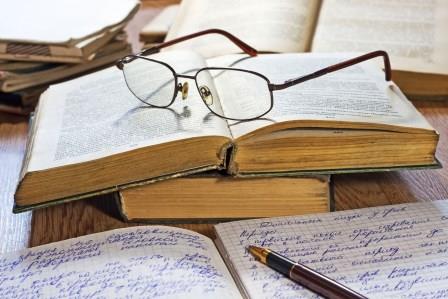Важным компонентом современного научного письменного дискурса стали различные средства инфографики. Отмечается универсальный характер графических образов, без которых невозможно представить результаты научного исследования или технических разработок, успешный учебный процесс или журналистский репортаж1.
Под инфографикой понимают «визуализацию информации, знания и идей с целью упрощения понимания данных для понимания их читателями», она «фокусирует внимание читателя на ключевых данных или новизне исследования» [1 с. 104]. Очевидно, что инфографика имеет большое значение не только для адресата научных статей, но и для самого исследователя, помогая выявить существенные понятия, связи, их координацию, закономерности и т. п. С развитием компьютерных технологий и нейросетей информация, представленная с помощью визуальных средств, стала более наглядной, структурированной и доступной как для авторов, так и для читателей научной литературы. В ХХI в. средства визуализации применяются в научных исследованиях с разными целями: для сжатого или обобщенного предъявления больших объемов информации, в том числе и статистики, упрощая восприятие сложных или многокомпонентных феноменов, их структуры и внутренних связей; для привлечения внимания к ключевым аспектам исследуемого явления; для уточнения и повышения качества понимания и запоминания информации; для накопления и хранения больших данных. Применение визуальных методов исследования расширяет методологическую базу, предоставляя ученым возможности всесторонне и глубоко изучить и представить проблему, предложить способы ее решения.
Цель данной статьи – выявить взаимосвязи между применением средств визуализации преподавателями университетов в собственных продуктах академического письма (научных статьях) и в процессе восприятия (чтения) ими научных статей других авторов. Результаты такого исследования позволят определить возможные направления организации курсов академического письма для разных целевых групп с учетом развития комплексных умений, обеспечивающих эффективную рецепцию и продукцию инфографики в научных текстах. В исследовании ставится проблемный вопрос: как соотносятся опыт использования инфографики автора научного текста и опыт декодирования такой информации у реципиента ‒ преподавателя университета. Выбор фокус-группы обусловлен тем, что в подавляющем большинстве случаев именно преподаватели выступают и авторами научных текстов, и их адресатами.
Визуализация рассматривается исследователями как «наглядное представление информации и понятий, созданное для эффективной передачи содержания или идеи» [2]. Подчеркивается ее значимость и для авторов статей, и для реципиентов, которые получают возможность точнее и глубже понять идеи автора [3, с. 7], отмечается также необходимость вербальных комментариев, подкрепляющих визуальные изображения2. «Числа с помощью графиков становятся наглядными, доступными, понятными и интересными, легко выявляются закономерности, дают общее представление о показателях, их сравнении, общую характеристику динамики процесса или общую картину закономерности размещения»3.
Методы визуализации важны для авторов научных текстов как способ проведения исследования, «делая видимым невидимое», представляя «видимое абстрактным», устанавливая отношения и конструируя структуры, концепции4, использующих образы разных форматов (фото, видео, карты, графики и т. п.) как составную часть генерирования, изучения и анализа данных5. Так, в монографии Moss J., & Pini B. убедительно раскрываются возможности визуальных методов для исследования различных сторон образования: от анализа условий и методики их использования до описания культурных и этических аспектов [4].
Все это обусловливается наличием множества преимуществ, присущих инфографике как целенаправленно разработанным и организованным визуальным образам: «…инфографика может в привлекательной форме организовывать и представлять огромное количество данных, а также показывать значение фактов и объектов в пространстве и времени, изображать тенденции» [5, с. 166], являясь, по сути, особым видом сообщения автора.
Такой потенциал визуальных методов исследования объясняется тесной связью визуальной сенсорной системы с когнитивными процессами. Наглядно-образный код предшествует зарождению мыслей и их формированию, активно участвует в понимании как своих, так и чужих идей [6]. Выявлено, что в процессе планирования академического письма лежит «опыт проведения исследований, развитие научного мышления и опыт написания научных текстов», а сам «язык, на котором думает и строит карту будущего текста автор, не имеет значения» [7, с. 3‒4]. При программировании научного текста визуализация побуждает к размышлениям, уточняет мысли, наталкивает на новые идеи, объединяя внешнее и внутреннее, наглядные представления и вербальные формулировки, стимулируя дальнейшие умственные и практические действия [8].
Визуальные образы, следовательно, ‒ это неотъемлемый компонент познания, т. е. обретения и использования знаний в ходе сбора данных или генерирования идей [9, p. 7]. Сферы применения визуальных методов исследования соотносятся не только с самим процессом, но и с оформлением полученных результатов.
В зависимости от целей, характера информации, научных убеждений и предпочтений авторов [10], в статьях используются различные изображения, карты, структурированные данные, диаграммы, шкалы, блок-схемы, ментальные карты, кластеры и т. п. с применением геометрических фигур, стрелок, шрифтов, цветовой гаммы. Применение инфографики в научном тексте требует от автора творческого воображения, владения компьютерными программами, эстетического вкуса и чувства меры. Используемые приемы визуализации отражают авторскую позицию, значимы и для самого исследователя, и для адресата (будущего читателя). Через форму исследователь «общается с потребителем (понимая под формой не только оболочку или конструкцию материальных предметов, но и структуры, сценарии действия, те или иные правила и условия)» [11, с. 6]. Качественная инфографика в научном тексте обладает следующими свойствами: целостное содержание, выраженное через систему визуальных образов; единство текста и изображения; доступность интерпретации инфографики аудитории в соответствии с авторским замыслом; информативность в сочетании с привлекательностью и нескучностью [5]. Выбор способа визуализации, который наилучшим образом сможет усилить восприятие и понимание посыла автора, ориентирован, следовательно, и на логику исследования, и на функциональное назначение изображения, и на будущего адресата научного текста.
При этом отмечается, что выбор способа визуализации и его конкретных характеристик имеет зачастую субъективный характер. Соответственно, требуется авторский критический анализ вариантов выбора – умение, которому следует обучать [4, р. 271].
Рассмотрим процессы восприятия инфографики в научных текстах читателями. Наличие визуальных образов в тексте делает коммуникацию отправителя сообщения к получателю (читателю) более успешной [5], поскольку «визуальные образы считываются человеком лучше всего»6. Большинство современных читателей быстрее усваивают информацию, воплощенную в визуальных образах. Тем не менее точность понимания и интерпретации инфографики зависит как от самих средств визуализации, содержащихся в научном тексте, что зависит от умения автора академического текста применять их, так и от особенностей реципиента текста, что определяется его опытом, погруженностью в тематику, концентрацией внимания, мотивацией и т. п.
Расшифровка инфографики опирается на мыслительные и мнемические процессы, предполагая поиск релевантных знаний в опыте [12]. Декодирование информации с опорой на визуальный образ снижает когнитивную нагрузку на читателя, позволяя сформировать целостные представления, определить системные связи, сформировать собственное мнение о событиях [12‒15]. В любом случае «декодирование визуальной информации является повседневной функцией восприятия, но в области информационной графики это приобретает особый оттенок графической загадки»7. Такое декодирование особенно значимо в контексте научной статьи, где требуется интеграция вербального текста и инфографики.
Осмысление значения инфографики в совокупности с вербальным текстом зависит от читательской грамотности, включающей в себя и визуальную грамотность, которая определяется как процесс создания смысла при взаимодействии мультимодальных комплексов (совокупностей), объединяющих письменный текст, визуальные образы, конструкторские элементы с самых разных точек зрения и с учетом требований разных социальных контекстов [16, p. 23]. Установлено, что различия между реципиентами инфографики более значимы, чем сам визуальный дизайн [12]. Очевидно, что опыт, цели, способности и уровень обученности в существенной мере определяют качество восприятия и интерпретации инфографики реципиентом.
Отмечается, что визуальные средства имеют побудительную силу в процессах восприятия и проникновения в содержание читаемого [4, p. 23]. «Повлиять на действия читателя, чтобы он запомнил сообщение и принял решение им поделиться, возможно только через “триггер”: личную потребность. В случае исследовательских статей ‒ это умножение знания, интерес к новизне работы, совпадение научных интересов, эстетическое восхищение увиденным изображением» [1, с. 104].
При этом нельзя не упомянуть о том, что визуальные средства способны оказывать и отрицательное воздействие на субъект, вызванное дезориентацией читателя, поверхностным восприятием, чрезмерным упрощением проблемной информации [12], а также неточным отображением информации в визуальных средствах, связанным с предубеждениями или небрежностью автора или иными причинами [17].
Очевидно, что процесс коммуникации между авторами научных текстов и их реципиентами зависит от большого количества факторов, связанных как с опытом и целями реципиента, так и с характеристиками самой статьи, инфографики и опосредованно ‒ с опытом автора научного текста. Данные способности можно и нужно специально развивать в рамках разных дисциплин, включая и курс академического письма.
Для определения значимости инфографики в научных педагогических текстах и анализа взаимосвязей между применением средств визуализации преподавателями университетов в собственных продуктах академического письма (научных статьях) и восприятием (чтением) ими научных статей других авторов в 2024 г. было проведено эмпирическое исследование, которое включало в себя два этапа. На первом этапе для определения распространенности приемов визуализации в научных статьях по проблемам образования методом сплошной выборки проведен анализ использования средств визуализации в журналах, включенных в базу данных Scopus. Были проанализированы все статьи в выпуске № 1 за 2025 г. в журналах «Высшее образование в России» и «Вопросы образования» и подсчитано количество использованных авторами схем, таблиц и рисунков. Данные подверглись статистической обработке (среднее количество, медиана и стандартное отклонение).
На втором этапе был разработан опросник для преподавателей иностранных языков региональных университетов с целью выявить их опыт написания научных статей, использования при этом приемов визуализации и отношения к ним при чтении научных статей. В опросе участвовали 52 преподавателя иностранных языков региональных университетов. Полученные данные были проанализированы и обработаны статистически.
Первый этап исследования дал следующие результаты (табл. 1):
Таблица 1
Использование визуализации в научных статьях
Table 1
Visualization use in academic papers
|
Статья
|
Количество таблиц | Количество рисунков | Общее количество приемов визуализации |
| 1. Альмухамбетова А., Кужабекова А., Ким Т. [18] | 2 | 0 | 2 |
| 2. Браташ В. С., Бысик Н. В., Виноградова Ю. С. [19] | 3 | 0 | 3 |
| 3. Гордеева Т. О., Сычев О. А. [20] | 1 | 3 | 4 |
| 4. Губа К. С., Кучаков Р. К. [21] | 1 | 3 | 4 |
| 5. Дворецкая И. В., Уваров А. Ю. [22] | 6 | 2 | 8 |
| 6. Калашникова Е. К., Карпов Е. К. [23] | 3 | 8 | 11 |
| 7.Михайлова А. М., Авдеенко Н. А., Ченцова А. А., Пащенко Т. В. [24] | 1 | 2 | 3 |
| 8. Рожкова К. В., Рощин С. Ю., Травкин П. В. [25] | 11 | 0 | 11 |
| 9. Солодихина М. В. [26] | 7 | 8 | 15 |
| 10. Рудской А. И., Кабышев С. В., Боровков А. И., Романов П. И., Гришина Н. С. [27] | 0 | 0 | 0 |
| 11. Караваева Е. В., Маландин В. В. [28] | 0 | 5 | 5 |
| 12. Николаев В. К., Скворцов А. А., Николаев Р. С., Богатенков С. А. [29] | 1 | 2 | 3 |
| 13. Руднева И. А., Козырева О. А. [30] | 5 | 0 | 5 |
| 14. Авдеева С. М., Тарасова К. В. [31] | 1 | 8 | 9 |
| 15. Хамидулина М. С., Малошонок Н. Г. [32] | 0 | 1 | 1 |
| 16. Гурулева Т. Л., Ло Ваньци [33] | 3 | 0 | 3 |
Для анализа были использованы данные о количестве таблиц и рисунков в выборке из 16 научных статей. По каждому показателю рассчитывались: среднее арифметическое, медиана, стандартное отклонение. Полученные значения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Статистические показатели об использовании визуализации
в научных статьях
Table 2
Statistical indicators on visualization use in academic papers
| Параметр | Среднее | Медиана | Стандартное отклонение |
| Количество таблиц | 2,81 | 1,5 | 2,94 |
| Количество рисунков | 2,63 | 1,5 | 2,88 |
| Общая визуализация | 5,44 | 4 | 4,07 |
Анализ полученных данных показал симметричное использование таблиц и рисунков, т. к. средние значения количества таблиц (2,81) и рисунков (2,63) статистически не различаются (t-тест, p > 0,05). Более того, медианные значения идентичны (1,5). Однако необходимо отметить высокую вариабельность в использовании приемов визуализации. Большие значения стандартного отклонения (2,94‒4,07) свидетельствуют о значительном разбросе данных. Большинство статей содержат мало элементов визуализации (медиана 1,5), тогда как некоторые работы имеют исключительно большое их количество (до 15). Вместе с тем 15 статей из 16 включают инфографику. Содержание статей и цели авторов не имеют значения при выборе приемов визуализации: их тематика связана с самыми разными аспектами образования. И более теоретические, и практико-ориентированные научные тексты предполагают инфографику. Можно заключить, что инфографика стала неотъемлемой составляющей современной научной статьи. Преобладающими приемами визуализации в педагогических научных статьях являются таблицы и графики.
На втором этапе исследования опрошены 52 преподавателя иностранного языка региональных университетов и проанализированы их ответы. Кластерный анализ ответов проведен на основе таких показателей, как количество публикаций, частота использования приемов визуализации, внимательность к визуализации при чтении научных статей, предпочтения по типу предъявления информации. Метод k-mean позволил выявить три кластера исследователей, между которыми имеются существенные отличия.
Кластер 1 (n = 25): преподаватели университета, которые имеют от 10 до 20 публикаций за последние 5 лет, часто используют приемы визуализации, предпочитают как текстовую, так и визуальную информацию. Кластер 2 (n = 20): преподаватели университета, которые имеют большое количество публикаций (более 20), всегда / часто используют приемы визуализации, внимательно изучают их. Кластер 3 (n = 7): преподаватели университета, которые имеют малое количество публикаций (1‒10), редко используют приемы визуализации, предпочитают текстовую информацию. Более подробное сравнение кластеров представлено в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительная таблица параметров для кластеров 1‒3
Table 3
Comparative analysis of the parameters for clusters 1‒3
| Параметр | Кластер 1 | Кластер 2 | Кластер 3 |
| Количество статей | 10‒20 (умеренное) | >20 (высокое) | 1‒10 (низкое) |
| Использование визуализации (1 = никогда ‒ 5 = всегда) | Иногда ‒ часто (3,2/5) | Часто ‒ всегда (4,5/5) | Редко (1,8/5) |
| Внимательность к визуализации при чтении статей (1 = никогда ‒ 5 = всегда) | Иногда‒часто (3,5/5) | Часто ‒ всегда (4,7/5) | Редко (2,0/5) |
| Предпочтения в виде информации (текст / визуальная информация) | Текст и визуальная информация (85 %) | Визуальная информация или комбинация (70 %) | Текст (65 %) |
| Факторы, мешающие восприятию визуальной информации | Выбор типа визуализации | Перегруженность данных | Нехватка навыков и умений |
Анализ полученных данных показывает, что преподаватели в кластере 1, которых можно описать как умеренных пользователей визуализации (25 исследователей), характеризуются достаточно высокой продуктивностью в академическом письме, среднее значение опубликованных статей составляет 15. Данный кластер исследователей использует визуализацию со значением 3,2 по 5-балльной шкале (между «иногда» и «часто»), а именно 60 % используют визуализацию «часто», 30 % ‒ «иногда», 10 % ‒ «редко». При восприятии визуализации в научных статьях они склонны внимательно изучать графики / таблицы (средний балл 3,5 из 5). При этом 85 % исследователей в данном кластере предпочитают сочетать текст и визуальные элементы.
Преподавателей в кластере 2 можно охарактеризовать как наиболее активных пользователей и сторонников визуализации (20 исследователей). Для данного кластера свойственна более высокая публикационная активность (в среднем 25‒30 статей за последние 5 лет). Исследователи в данном кластере используют визуализацию значительно чаще ‒ 4,5 по 5-балльной шкале («часто» или «всегда»), 75 % ‒ «всегда», 25 % ‒ «часто». При этом они демонстрируют максимальную внимательность при чтении научных статей (средний балл 4,7 из 5). 70 % исследователей в данном кластере отдают предпочтение визуальной информации и ее сочетанию с текстом.
Преподаватели в кластере 3 (17 исследователей) характеризуются такими показателями, как низкая публикационная активность (в среднем 5‒7 статей за 5 лет), редким использованием визуализации ‒ 1,8 по 5-балльной шкале: 65 % ‒ «редко», 20 % ‒ «никогда», 15 % ‒ «иногда». Представители данного кластера демонстрируют низкую внимательность к визуализации при чтении научных статей (средний балл 2,0), 65 % предпочитают только текстовую информацию.
Для проверки статистической значимости различий между тремя выделенными кластерами исследователей по ключевым параметрам был проведен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Анализ выполнялся для трех зависимых переменных: 1) количество публикаций за последние 5 лет; 2) частота использования визуализации в собственных статьях; 3) уровень внимания к визуализации при чтении научных статей.
Перед проведением анализа были проверены основные допущения:
- нормальность распределения (тест Шапиро ‒ Уилка) показал, что для всех переменных p > 0,05 (количество статей: p = 0,07; использование визуализации: p = 0,09; внимательность: p = 0,11), что позволяет не отвергать гипотезу о нормальности распределения;
- гомогенность дисперсий (тест Левена) для всех переменных p > 0,05 (количество статей: p = 0,15; использование визуализации: p = 0,22; внимательность: p = 0,31) свидетельствует о равенстве дисперсий между группами.
Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты дисперсионного анализа
Table 4
Analysis of variance (ANOVA) results
| Зависимая переменная | F-статистика |
Степени свободы |
p-value | η² (эта-квадрат) |
| Количество публикаций | F (2,59) = 28,4 | 2, 59 | < 0,001 | 0,49 |
| Использование визуализации | F (2,59) = 35,6 | 2, 59 | < 0,001 | 0,55 |
| Внимательность к визуализации | F (2,59) = 40,1 | 2, 59 | < 0,001 | 0,58 |
Результаты дисперсионного анализа показали, что наблюдаются статистически значимые различия между кластерами (F (2,59) = 28,4, p < 0,001). Величина эффекта η² = 0,49 указывает на большую практическую значимость различий. Также выявлены значимые межгрупповые различия (F (2,59) = 35,6, p < 0,001). Сила эффекта η² = 0,55 свидетельствует о сильном влиянии групповой принадлежности. При этом статистически значимые различия (F (2,59) = 40,1, p < 0,001) и величина эффекта η² = 0,58 указывают на сильную зависимость от кластерной принадлежности.
Результаты однофакторного дисперсионного анализа подтвердили статистическую значимость различий между тремя кластерами исследователей по всем анализируемым параметрам (p < 0,001). Наибольшие различия наблюдаются между Кластером 2 (исследователи с высокой публикационной активностью) и Кластером 3 (исследователи с низкой публикационной активностью). Величины эффекта (η²) указывают на сильное влияние групповой принадлежности на изучаемые переменные.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что продуктивность исследователей (количество публикаций) значимо связана с их отношением к визуализации данных. Также подтвердилась связь между публикационной активностью исследователей, использованием визуализации и вниманием к ней при чтении научных статей. Исследователи с высокой публикационной активностью не только чаще используют визуализацию в своих работах, но и более внимательно изучают визуальные элементы в статьях других авторов. Выделенные кластеры представляют собой качественно различные группы с точки зрения их публикационных стратегий и отношения к визуализации научных данных.
Полученные в ходе исследования данные коррелируют с тем, что осмысление и использование инфографики в совокупности с вербальным текстом зависит от читательской и визуальной видов грамотности. Более того, данные исследования позволяют также заключить, что читательская грамотность напрямую связана с академической компетентностью исследователя. Это подтверждает идею Eberhard о том, что различия между реципиентами инфографики более значимы, чем сам визуальный дизайн [12]. Очевидно, что опыт, цели, способности, мотивация и уровень обученности в существенной мере определяют качество использования, восприятия и интерпретации инфографики и авторами, и реципиентами научных текстов.
Хотя в государственных стандартах РФ не указывается на необходимость формирования академической компетенции как отдельной цели высшего образования, все его участники на разных уровнях отмечают необходимость специально организованного обучения академическому письму [34].
Обучение созданию научных текстов (академическому письму) – это комплексная педагогическая деятельность, требующая решения множества задач, связанных с актуализацией предметных, а часто и междисциплинарных знаний, активизацией универсальных (стратегий мышления, регулирования и реализации деятельности), коммуникативных (в научной сфере) и специальных компетенций (исследовательской) [7; 34‒36]. Академическая компетентность базируется на комплексе видов грамотности: академической, читательской, визуальной.
Поэтому предлагается делать акцент на «применения универсальных моделей логической организации текста последовательно и поэтапно, от выдвижения центральной гипотезы и формулировки тезиса, организации информации и структуры элементов и метаэлементов текста до редактирования языка. Ключевую роль здесь играют параллельная работа над собственным текстом и выполнение контролируемых заданий на редактирование, поиск и устранение ошибок» [37]. Однако отметим, что множество предлагаемых моделей делают акцент именно на академическом письме вне связей создания своих текстов с чтением текстов других авторов. На примере проведенного исследования взаимосвязей опыта кодирования и декодирования инфографики в научных текстах мы пришли к выводу о том, что опыт расшифровки и интерпретации визуальных средств в чужих текстах может положительно влиять на применение таких приемов в собственных научных текстах. Следовательно, обязательным разделом курса академического письма должен стать раздел по обучению визуальным приемам декодирования и кодирования информации в научных текстах.
Такой раздел, несомненно, будет совершенствовать исследовательские умения обучающихся, включая и овладение визуальным методом исследования, и различными способами предъявления его результатов в научных текстах. Ознакомление с образцами инфографики в научных статьях, ее осмысление, выявление внутренних связей с логикой изложения содержания и интерпретация задают некую модель применения аналогичных или иных визуальных средств в собственных исследованиях и текстах.
Основой для организации целенаправленной работы с инфографикой может стать таксономия интерактивной динамики для оценивания и создания визуальных аналитических инструментов, состоящая из двенадцати типов заданий [37], которые можно адаптировать, расширить и конкретизировать применительно к учебным задачам дисциплины / раздела. Возможны два подхода к сбалансированному овладению приемами декодирования и кодирования инфографики в научных текстах: концентрированный (отдельный) и распределенный по разным дисциплинам.
В заключение подчеркнем несомненную значимость целенаправленного обучения современных студентов чтению и написанию научных текстов как фундамента качественного высшего образования, обеспечивающего овладение и предметными, и профессиональными, и универсальными компетенциями.
Список литературы
- Родионова Ю. В. Современные требования к использованию инфографики в научных статьях [Электронный ресурс] // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022. № 2. Электрон. дан. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-trebovaniya-k-ispolzovaniyu-infografiki-v-nauchnyh-statyah (дата обращения 08.07.2025).
- Padilla L. M., Creem-Regehr S. H., Hegarty M., Stefanucci J. K. Decision making with visualizations: A cognitive framework across disciplines // Cognitive Research: Principles and Implications. 2018. No. 3 (1). P. 29. DOI:10.1186/s41235-018-0120-9
- Shneiderman B. Human-Centered Artificial Intelligence: Reliable, Safe & Trustworthy [Электронный ресурс]. arxiv.org (February 23, 2020). Электрон. дан. URL: https://arxiv.org/abs/2002.04087v1(дата обращения 08.07.2025)
- Moss J., Pini B. (Eds.). Visual research methods in educational research. London: Palgrave Macmillan, 2016. 282 p.
- Орынбай Г. Т., Кажикенова А. Ш., Алибиев Д. Б. Инфографика как современный способ представления информации [Электронный ресурс] // Вестник науки. 2020. № 12 (33). Т. 4. С. 166–168. Электрон. дан. URL: https://www.вестник-науки.рф/article/3966 (дата обращения 08.07.2025).
- Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6. С. 26–38.
- Короткина И. Б. Обучение письму для научно-публикационных целей онлайн // Непрерывное образование: XXI век. 2024. Вып. 3 (47). DOI: 10.15393/j5.art.2024.9604
- Вербицкий А. А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: Проблемы интеграции. Москва: Логос, 2009. 336 с.
- Card S., Mackinlay J. D., Shneiderman B. Readings in Information Visualization: Using Vision to Think. San Francisco: Morgan Kaufmann, Academic Press, 1999. 686 p.
- Tversky B. Visualizing thought // Topics in Cognitive Science. 2011. No. 3 (3). P. 499–535. DOI:10.1111/j.1756-8765.2010.01113.x
- Лаврентьев А. Н. Строгановская школа и цифровое искусство. Теоретические, проектные и учебно-методические проблемы дизайна информационного пространства // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2014. № 1. С. 4–18
- Eberhard K. The effects of visualization on judgment and decision-making: A systematic literature review // Management Review Quarterly. 2023. No. 73. P. 167–214. DOI: 10.1007/s11301-021-00235-8
- Smerecnik C. M. R., Mesters I., Kessels L. T. E. [et al.]. Understanding the positive effects of graphical risk information on comprehension: Measuring attention directed to written, tabular, and graphical risk information // Risk Analysis. 2010. No. 30 (9). P. 1387–1398. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2010.01435.x
- Wang D., Guo D., Zhang H. (Eds.). Spatial temporal data visualization in emergency management: A view from data-driven decision. Springer, 2017. DOI: 10.1145/3152465.3152473
- Ballard A. Promoting performance information use through data visualization: Evidence from an experiment // Public Performance & Management Review. 2020. No. 43 (1). P. 109–128. DOI: 10.1080/15309576.2019.1592763
- Serafini F. Reading the visual: An introduction to teaching multimodal literacy. New York: Teachers College Press, 2014. 208 p.
- Nguyen V. T., Jung K., Gupta V. Examining data visualization pitfalls in scientific publications // Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art. 2021. No. 4 (1). P. 27. DOI: 10.1186/s42492-021-00092-
- Альмухамбетова А., Кужабекова А., Ким Т. Факторы, способствующие и препятствующие удержанию женщин в STEM-областях с углубленным изучением математики: опыт студенток бакалавриата из Казахстана // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 25–53. DOI: 10.17323/vo-2025-18297
- Браташ В. С., Бысик Н. В., Виноградова Ю. С. Типология и структура школьного урока: обзор публикаций до и после введения ФГОС второго поколения // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 54–89. DOI: 10.17323/vo-2025-21871
- Гордеева Т. О., Сычев О. А. Что стоит за поддерживающим автономию и контролирующим стилями преподавания у учителей // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 90–116. DOI: 10.17323/vo-2025-21425
- Губа К. С., Кучаков Р. К. Мониторинг деятельности организаций высшего образования: панель наблюдений за 2015–2023 гг. // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 117–139. DOI: 10.17323/vo-2025-21676
- Дворецкая И. В., Уваров А. Ю. Готовы ли школы к цифровой трансформации: о результатах мониторинга общеобразовательных организаций // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 140–168. DOI: 10.17323/vo-2025-19763
- Калашникова Е. К., Карпов Е. К. Цифровая грамотность студентов: методика, тестирование, оценка // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 169–196. DOI: 10.17323/vo-2025-17011
- Михайлова А. М., Авдеенко Н. А., Ченцова А. А., Пащенко Т. В. О чем не говорит размер эффекта: методология исследований формирования универсальных компетентностей // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 197–232. DOI: 10.17323/vo-2025-17337
- Рожкова К. В., Рощин С. Ю., Травкин П. В. Судьба заочника: выпускники российских вузов заочной формы обучения на рынке труда // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 233–268. DOI: 10.17323/vo-2025-19898
- Солодихина М. В. Влияние эпистемологических представлений и предрасположенностей на развитие навыков критического мышления у студентов // Вопросы образования. 2025. № 1. С. 269–303. DOI: 10.17323/vo-2025-19702
- Фундаментальные основы успеха и престижа отечественного инженерного образования / А. И. Рудской, С. В. Кабышев, А. И. Боровков [и др.] // Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1. С. 9–29. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-9-29
- Караваева Е. В., Маландин В. В. Проблемы кадрового обеспечения научно-технологического развития России в свете формирования новой Стратегии развития образования до 2040 года // Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1. С. 30–41. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-30-41
- Интернационализация российского образования: новые вызовы и новые решения / В. К. Николаев, А. А. Скворцов, Р. С. Николаев [и др.] // Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1. С. 42–62. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-42-62
- Руднева И. А., Козырева О. А. Формирование профессиональной идентичности будущих педагогов средствами обучения служением // Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1. С. 63–81. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-63-81
- Авдеева С. М., Тарасова К. В. Доказательный дизайн для оценки универсальных компетенций в высшем образовании: преимущества и особенности // Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 12. С. 82–105. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-82-105
- Хамидулина М. С., Малошонок Н. Г. Саморегулируемое обучение не для всех: в поисках объяснения гетерогенного эффекта интервенций // Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1. С. 106–127. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-106-127
- Гурулева Т. Л., Ло Ваньци. Российско-китайское образовательное сотрудничество в пандемийный и постпандемийный периоды // Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 1. С. 128–150. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-128-150
- Бабакова Т. А., Добрынина О. Л., Юсупова Л. Н. Проблемы и перспективы развития академического письма в региональном университете // Непрерывное образование: XXI век. 2024. Вып. 3 (47). DOI: 10.15393/j5.art.2024.9686
- Kolesnikova N. I., Ridnaya Y. V. The Integrated Model as a Basis for Teaching Academic Writing in Context of Globalization // Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Vol. 342: Science and Global Challenges of the 21st Century. P. 560–569. DOI: 10.1007/978-3-030-89477-1_54
- Добрынина О. Л. Обучение студентов основам академического письма: фокус и структура текста // Непрерывное образование: XXI век. 2022. Вып. 3 (39). DOI: 10.15393/j5.art.2022.7847
- Heer J., Shneiderman B. Interactive dynamics for visual analysis // Queue. 2012. No. 10 (2). P. 30.